Современность, мораль и мимесис – первый месяц
Когда на прошлой неделе умер Александр Солженицын, мы вернулись к «Настоящему письму» Майкла Лайдона, которое завершается прославлением правдивости Солженицына. Возьмите следующие выдержки из работы Лайдона как его (и «Первого») дань уважения Солженицыну.
Из многих автобиографических отрывков из ГУЛАГа томов и портретов Нержина и Котоглотова, солженицынских персонажей The First Circle и Cancer Ward , появляется история человека, который медленно постигал истину о равенстве через долгий процесс лишения и лишения себя ложных привилегий.
При первом аресте Солженицын был дерзким молодым офицером, привыкшим подчиняться его приказам. Во время своего первого перехода под охраной он заставил другого заключенного нести свою сумку. В своем первом лагере он играл в уголки, чтобы найти неплохую работу, и в течение трех лет служил на одном из «райских островов» Архипелага, в московской тюремной лаборатории или «шарашке», описанной в Первый круг . Когда Нержину предложили присоединиться к группе криптографов, которая продлит его пребывание в шарашке в относительном комфорте, «здравый смысл сказал: «да», — пишет Солженицын, — но сердце сказало: «отойди от меня, сатана. Ибо Нержин начинает понимать, что цепляние за привилегии ослабляет его, что истинная сила заключается в том, чтобы делить жизнь с другими людьми как «равный среди равных». Он отказывается от предложения и в конце романа начинается долгий этап в каторгу. Солженицын берется за историю в ГУЛАГ , описывающий свои первые дни кладки кирпичей в Экибастузе, затерянном в степи лагере:
Когда Нержину предложили присоединиться к группе криптографов, которая продлит его пребывание в шарашке в относительном комфорте, «здравый смысл сказал: «да», — пишет Солженицын, — но сердце сказало: «отойди от меня, сатана. Ибо Нержин начинает понимать, что цепляние за привилегии ослабляет его, что истинная сила заключается в том, чтобы делить жизнь с другими людьми как «равный среди равных». Он отказывается от предложения и в конце романа начинается долгий этап в каторгу. Солженицын берется за историю в ГУЛАГ , описывающий свои первые дни кладки кирпичей в Экибастузе, затерянном в степи лагере:
Могу ли я продолжать в том же духе? Мы были неуклюжими интеллектуальными существами, и нам давался такой же объем работы, как и нашим товарищам по команде. Но день, когда я нарочно позволил себе опуститься на дно и ощутил твердость под ногами – твердое, каменистое дно, одинаковое для всех, – стал началом самых важных лет моей жизни, лет, наносивших последние штрихи.
на мой характер.
Характер Солженицына определялся его писательскими актами, как отмечает Лайдон: «Пусть любая из его книг откроется где угодно, и на странице или двух вы найдете доказательство того, что любовь автора к своему делу мысль всегда в голове, независимо от того, куда его могут завести другие мысли». В Экибастузе, например, все сводилось «к одному голому вопросу: «Как я мог писать?»
Нашел ответ: «Только в голове».
«Только в твоей голове», надеюсь, дорогой читатель, что ты чувствуешь мужество в этих четырех тихих словах…
К концу предложения Солженицын сочинил и запомнил 12 000 строк, большинство из них Путь , стихотворение, которое он назвал «романом в стихах». Метод имел свои недостатки. Чтобы память оставалась свежей, Солженицыну приходилось раз в месяц пересказывать все написанное, и чем больше он писал, «тем больше дней в каждом [было] поглощено чтением». Хуже того, запись на память производила некачественную работу. Он обнаружил, что без бумаги «перестаешь ясно видеть написанное, перестаешь замечать сильные и слабые стороны». Но излагать слова на бумаге даже в течение нескольких часов было опасно. Охранники трижды ловили его с фрагментами стихотворения. К счастью, он писал стенографией, и охранники, не в силах разобраться в прочитанном, дважды облаяли его и отпустили. Третий раз был самым близким звонком. Он работал над стихотворением, Мейсон , в течение нескольких дней и читал ее в тихом месте у пограничного забора, когда охранник схватил его и привел на допрос. Солженицын сумел скомкать The Mason и незаметно отшвырнуть его, но всю ночь он не спал, думая о том, как его «комочек бумаги» гоняет по территории ветром. Он должен найти его и сжечь! Он встал перед рассветом и выскользнул на то же место. Ночной ветер превратился в вихрь, который бросал ему в лицо мелкие камни, как град:
Он обнаружил, что без бумаги «перестаешь ясно видеть написанное, перестаешь замечать сильные и слабые стороны». Но излагать слова на бумаге даже в течение нескольких часов было опасно. Охранники трижды ловили его с фрагментами стихотворения. К счастью, он писал стенографией, и охранники, не в силах разобраться в прочитанном, дважды облаяли его и отпустили. Третий раз был самым близким звонком. Он работал над стихотворением, Мейсон , в течение нескольких дней и читал ее в тихом месте у пограничного забора, когда охранник схватил его и привел на допрос. Солженицын сумел скомкать The Mason и незаметно отшвырнуть его, но всю ночь он не спал, думая о том, как его «комочек бумаги» гоняет по территории ветром. Он должен найти его и сжечь! Он встал перед рассветом и выскользнул на то же место. Ночной ветер превратился в вихрь, который бросал ему в лицо мелкие камни, как град:
Я бродил, согнувшись пополам, целый час до рассвета и ничего не нашел. К настоящему времени я был в отчаянии.
Потом, когда рассвело… Я увидел что-то белое в трех шагах от того места, где я это бросил! ветер откатил бумажный комок в сторону, и он застрял среди груды досок.
Я до сих пор считаю это чудом.
Итак, я продолжал писать.
Лайдон признает, что 1900 страниц «Архипелага ГУЛАГ» являются свидетельством желания Солженицына писать, однако Лайдон также тонко улавливает устный характер книги.
ГУЛАГ , пожалуй, самая длинная записанная речь в истории ораторского искусства. Вместо того, чтобы представить себе Солженицына, склонившегося над столом и пишущего его слова, я слышу, как он декламирует их как современный Демосфен, шагающий по большой сцене… Солженицын обращается ко мне лично, но он говорит не со мной одним. Ярусы и ярусы сидений поднимаются к высоким балконам вокруг его сцены, каждое место заполнено мужчинами и женщинами из всех наций на земле, и все мы слушаем так, как будто от этого зависит наша жизнь. Солженицын созвал нас в этот огромный зал суда, чтобы заслушать доказательства преступления против человечности, привлечь к ответственности преступников и защитить их невинных жертв.
ГУЛАГ доказывает, что Солженицын является гроссмейстером судебной риторики; в грядущие века ораторы и парламентарии будут изучать эти три тома как образцы того, как использовать язык для убеждения.
Как и многие хорошие ораторы, Солженицын начинает с забавного анекдота, хотя его комедия подобающе черная. В 1949 году, пишет он в предисловии к тому 1 , он и его друзья из тюремной лаборатории прочитали в научном журнале, что горняки, проводившие раскопки вдоль реки Колыма в Сибири, выкопали доисторических существ, замороженных на века и прекрасно сохранившихся. Вместо того, чтобы сохранить их для изучения, шахтеры выломали их изо льда и съели. Одна только эта картина вызвала бы неловкий смех у любого зрителя, но для Солженицына и его приятелей в ней была внутренняя шутка; они знали, что это были не обычные горняки, которые «отрывали куски доисторической плоти и таскали их к костру, чтобы оттаять и закрепить болтами». Нет, это были голодающие зэки… единственные люди, которые могли съесть доисторическую саламандру с удовольствием ».
Таким образом, «сломав лед» со своей аудиторией, Солженицын вводит метафору названия: ГУЛАГ или тюремная система, которую он описывает, представляет собой «архипелаг» островов, раскинувшихся на огромной территории России. Солженицын развивает метафору через все три тома – по мере роста системы «Архипелаг поднимается из моря»; транспортные поезда — это «корабли Архипелага», которые возят зэков «с острова на остров» — пока устройство не оживит весь текст. Метафора просит нас разрешить противоположности, визуализировать образ «теперь ты это видишь, а теперь нет»: нерушимая земная твердь России, покрытая усеянным островами морем, Филиппины, плавающие над Москвой, Ленинградом, Киевом и Одессой. Солженицын пытается убедить нас не только в том, что ГУЛАГ сделал страну в стране, ее граждане стали зэками, но и в том, что эта тюремная нация существовала в России как чудовище, невидимое и непреодолимое, тайна, которую знали все и никто бы не хотел. признавать. В этой метафоре вода беспокойно парит над сушей; точно так же и лицемерие вызывало тошноту в обществе, которое провозглашало равенство и практиковало рабство.
Лайдон обращает внимание на структуру — как устойчивую, так и динамичную — речи Солженицына и отмечает, как автор позволяет себе «дискурсивно в своей структуре»: «На странице или на двух он может рассказать историю о зэке и сравните его с рассказом о себе, процитируйте газету, пошутите или процитируйте пословицу». Лайдон показывает, как солженицынский способ пословиц сопротивляется идеологии, которая ставила «слова выше опыта».
При коммунизме «слова выше опыта» неправда заразила закон, как чума… Поскольку закон есть «политическое оружие» и «орган классовой борьбы», писал Николай Крыленко, обер-прокурор коммунистов в 1920-х годов вина или невиновность должны решаться «с точки зрения интересов революции». Следовательно, аресты не обязательно должны основываться на доказательствах правонарушений, а следователи не должны искать доказательств того, что —
«обвиняемый словом или делом действовал против Советской власти. Первый вопрос должен быть: каков его класс, каково его образование и воспитание?.
. Вот вопросы, которые должны решить судьбу обвиняемого».
В ГУЛАГ 1 Солженицын представляет диалог в зале суда между сталинским обвинителем Андреем Вышинским и подсудимым Николаем Бухариным в 1938 показательный суд. Внимательно прочитайте этот леденящий душу отрывок, дорогой читатель; Я нахожу жуткое очарование в том, как Вышинский, подобно злому близнецу Сократа, использует вопросы, чтобы шаг за шагом перейти от логики к демоническому:
«Правда ли, что всякая оппозиция партии есть борьба против партии?» ?»
«Вообще есть, фактически есть».– А это значит, в конце концов, при наличии оппозиционных убеждений, какие бы гнусные дела против партии ни совершались…?
«Но, подождите, на самом деле ни один из них не был совершен».– А могли быть?
«Ну, теоретически».«Вот видите, нас разделяет лишь тонкое различие. От нас требуется конкретизировать возможность: в интересах дискредитации на будущее любой идеи оппозиции мы должны принять как свершившееся то, что могло произойти лишь теоретически.
В конце концов, это могло быть, не так ли?»
«Могло быть».«Итак, надо принять за действительное то, что было возможно; вот и все. Это небольшой философский переход. Мы согласны?»
Нет. Не согласен! Небольшой переход? Это зияющая пропасть. То, чего никогда не было, случилось, потому что могло произойти? Ерунда! В стране, где можно так употреблять слова, Солженицын делает вывод: «Нет закона».
Вот так одна коренная неправда, что слова определяют опыт, может породить миллион других неправд и несправедливостей. Как бы Солженицын ни был в ярости от того, что эта неправда причинила боль русскому народу и ему самому, он так же в ярости от того, что сами слова могут быть так цинично использованы. И все же, как он мог победить эту злонамеренную болтовню? Сражаясь с неправдой пункт за пунктом, он мог запутаться в путанице благовидных аргументов, заваленных фразами вроде «конкретизируй возможность» и отравленных источаемым ими отвратительным туманом неопределенности. Как он мог превратить наступление такой софистики в бегство и отступление?
Как он мог превратить наступление такой софистики в бегство и отступление?
Пословица, отвечает Солженицын, хорошая пословица воздух прояснит! «Слова превыше опыта» стоят с ног на голову; пословица ставит ноги письма на землю. Когда слова зависят от других слов (которые зависят от других слов…) в своем значении, письмо становится лишенным смысла, бледным, тонким и абстрактным. Пословицы, напротив, укоренены в опыте, как деревья в земле; они получают свой смысл из самой жизни. Когда Солженицын использует пословицу вроде «Кто с волками бежит, тот не овца» или «Свинья, которая опустила голову, вырывает самый глубокий корень», он побеждает коммунистическую двусмысленность словами, еще сырыми от цвета и вони опыта. .
В то время как демотический тон Солженицына и манера разговора поддерживают интерес читателей, Лайдон признает, что первые два тома «Архипелага ГУЛАГ» остаются «мрачными». Но есть поворот, в конце «Тома II» и Лайдон поднимается с Солженицыным…
По выбранной нами дороге — изгибы, повороты, повороты, повороты, повороты.
В гору? Или в небеса? Идем, спотыкаемся и шатаемся…
Камни катятся у нас из-под ног. Вниз, в прошлое! Это прах прошлого!
Мы поднимаемся!
Мы поднимаемся! После 1200 страниц спуска… эти два слова знаменуют один из великих поворотных моментов в литературе, момент, равный славному вступлению хорала в Девятую симфонию Бетховена . Бетховен открывает свою оду радости стоголосным фортиссимо; Солженицын открывает свою тему надежды одной треснувшей трубой, но по ходу главы труба с нарастающей убежденностью повторяет свой мотив из двух нот: «Вы восходите… мы восходим… мы восходим».
Доминировали холодные и агрессивные голоса прокуроров и следователей Тома 1 и II ; в томе III на первый план выступают зека-свободовладельца. Глава за главой мы слышим, как они делятся дерзкими стихами, планируют побеги, распространяют слухи о восстании в других лагерях и организуют собственные забастовки… », «Разрывая цепи», — и Солженицын подчеркивает это рассказом о своих зарождающихся надеждах. К началу Том III он тоже достиг дна, но он находит там твердое основание. Вскоре он делится стихами с товарищами по койке, увлеченно слушает рассказы об удачных побегах, ведет зэков-переговорщиков к победам над лагерным начальством.
К началу Том III он тоже достиг дна, но он находит там твердое основание. Вскоре он делится стихами с товарищами по койке, увлеченно слушает рассказы об удачных побегах, ведет зэков-переговорщиков к победам над лагерным начальством.
«Ты здесь, потому что тебя делегировали бандиты?»
«Нет, потому что ты пригласил меня!» Я торжествующе огрызнулся и продолжал говорить и говорить.
Он еще раз или два прыгнул на меня, был отбит и сидел совсем молча. Я выиграл».
Кульминацией восходящей линии является массовое освобождение заключенных, в том числе Солженицын, что положило начало эре Хрущева.
Лайдон находит риторическую логику «Тома III» Солженицына «непреодолимой», но отмечает, что «Архипелаг ГУЛАГ» остается убедительным повсюду, потому что Солженицын «не ведет свою восходящую линию в страну облаков-кукушек»: Солженицына как писателя в глубочайших традициях реализма, сравнивая его творчество с французскими, британскими и американскими романистами, другими героями «Настоящего письма». Но еще больше он делает связь между Солженицыным и Толстым.
Но еще больше он делает связь между Солженицыным и Толстым.
Прослеживание толстовской нити в творчестве Солженицына обнаруживает тонкие изменения в его мышлении. Во второй версии Август 1914 Солженицын переписывает сцену между Толстым и юным Саней в Ясной Поляне. В первой версии, когда к нему восстанавливается голос, Саня задает Учителю те же серьезные вопросы, которые задавали сотни других учеников, а затем отваживается на небольшую критику: «Вы уверены, что не преувеличиваете силу любви, присущую человеку?» «Только через любовь!» Толстой отвечает. Наказанный, Саня меняет тактику, чтобы спросить о поэзии. Толстой отмахивается от темы — «В поэзии много мыслей не найдешь» — и уходит.
Вторая версия начинается так же, но вместо того, чтобы сменить курс на поэзию, Саня бросается вперед, чтобы сделать свою первую критику более эксплицитной:
Но… это совсем не так, Лев Николаевич, это просто не так. не так! Зло отказывается знать правду.
Разрывает его своими клыками. Злые люди обычно лучше, чем кто-либо другой, знают, что они делают. И продолжайте это делать. Что нам с ними делать?
Толстой снова коротко отвечает и уходит, но новый абзац изменил тон всей сцены. Первая версия более реалистична — русский школьник перед Первой мировой войной скорее думал бы о поэзии, чем о природе зла, — но вторая более точно отражает горькие уроки, которые Солженицын усвоил при коммунистическом правлении…
Будь то цитата, анекдот или пример, Солженицын так часто ссылается на Толстого, что мы можем проследить непрерывное размышление о писателе и его идеях. Когда Толстой выступал в тюремных дебатах. Солженицын оказался на стороне обеих сторон. В Круге Первом Нержин хорошо знает толстовское кредо «надо «ходить в народ»», но как зэк имеет ироническое преимущество перед либеральными аристократами XIX века: «ему не надо было… чувствовать его путь вниз по лестнице, чтобы идти люди. Вместо этого его бросили среди людей в рваных ватных штанах и грязном бушлате и приказали отработать норму». Тюрьма также научила Солженицына тому, что Толстой предпочитал нравственное самосовершенствование политической свободе только потому, что относительная свобода при царях позволяла это: «Если бы на Толстого оказывали давление, как на всех нас в сталинские времена… даже он потребовал бы политической свободы».
Тюрьма также научила Солженицына тому, что Толстой предпочитал нравственное самосовершенствование политической свободе только потому, что относительная свобода при царях позволяла это: «Если бы на Толстого оказывали давление, как на всех нас в сталинские времена… даже он потребовал бы политической свободы».
С другой стороны, Толстой — «гигант», которого нельзя погладить по головке
Нам не жалко земляка по имени Лев Толстой. Это хорошая торговая марка. (Даже хорошая почтовая марка получается.) Иностранцев можно брать с собой в поездки в Ясную Поляну… Но дорогие земляки, если кто-то серьезно относится к Толстому, если среди нас выскочит настоящий живой толстовец — эй, глядите! Смотри, не попади под гусеницы!
и его идеи настолько сильны, что Солженицын часто использует их в свою защиту. «Зачем будоражить воспоминания о нашем неприятном прошлом?» Коммунистические критики придираются к нему. «На это у Льва Толстого был ответ, — не раз отвечает Солженицын, — что вы имеете в виду, зачем вспоминать?. . Если мы вспомним старое и посмотрим ему прямо в лицо, то и наше новое и теперешнее насилие обнаружит себя. ”
. Если мы вспомним старое и посмотрим ему прямо в лицо, то и наше новое и теперешнее насилие обнаружит себя. ”
Чтобы увидеть всю близость Солженицына и Толстого, нужно на мгновение отстраниться от их сочинений и посмотреть, как одинаково оба писателя донесли себя до читающей публики. Подобно Толстому столетие назад (и Виктору Гюго за тридцать лет до этого), Солженицын сыграл невероятную роль на мировой арене, бородатый русский писатель этого века, который прорвался сквозь завесы художественной литературы, чтобы громоподобно ораторствовать на прессе. политическая проблема дня. В каждом самодельном герое есть некий элемент придуманного величия. Я могу видеть юмор Солженицына, продолжающего свою позицию «голоса, вопиющего в пустыне» после завоевания широкой и почтительной аудитории, так же, как я могу посмеиваться над Толстым, переодевшимся нищим, чтобы отправиться в паломничество, но взяв с собой своего камердинера. Какие дураки эти бессмертные. Тем не менее, я не опровергаю ни того, ни другого. Если требуется высокомерие, чтобы схватиться за кафедру и проповедовать человечеству, как бурный пророк древности, это также требует смелой преданности истине. Толстой и Солженицын оба обрели свою мудрость трудным путем, и мы можем быть вечно благодарны им за то, что они щедро поделились ею с нами.
Если требуется высокомерие, чтобы схватиться за кафедру и проповедовать человечеству, как бурный пророк древности, это также требует смелой преданности истине. Толстой и Солженицын оба обрели свою мудрость трудным путем, и мы можем быть вечно благодарны им за то, что они щедро поделились ею с нами.
Толстой, конечно, был не единственным прямым литературным влиянием Солженицына. Лайдон ссылается на «Мертвый дом», воспоминания Достоевского о четырех годах в сибирской тюрьме, и объясняет:
Солженицын видит больше различий, чем сходства между своим опытом и опытом Достоевского. Словом, Достоевскому было легко; царисты были менее жестоки, чем коммунисты. Гуси бродили по сибирскому тюремному двору; — Заключенные не звонили себе в шею? Солженицын спрашивает пораженный? Фраза «В течение нескольких дней они не видели ничего, кроме хлеба и колбасы» лишает его дара речи.
Герои Гоголя и Чехова Солженицын тоже не мог проглотить.
«Отойди от меня, Гоголь! Отойди и от меня, Чехов! У обоих в книгах было слишком много еды.
– Ему не очень хотелось есть, но тем не менее он съел порцию телятины и выпил немного пива. – Сукин сын.
Однако Лайдон понимает, что Солженицын считал себя «продолжателем традиции русского реализма». Солженицын утверждал (в «Дубе и теленке»), что первостепенная задача писателя — «правдиво рассказать людям, как обстоят дела и что их ждет» и «связать свое произведение с»…
Тайны человеческого сердца и совести, противостояние жизни и смерти, торжество над душевной скорбью, законы человечества над веками, законы, которые родились из глубины веков и прекратят свое существование только когда солнце перестанет светить.
Лайдон сосредотачивается на ехт пример солженицынского реализма: персонаж Павел Николаевич Русанов в «Раковом корпусе».
Главный персонаж, Русанов получает первые строки.
Ко всему прочему, раковое крыло было № 13. Павел Николаевич никогда не был и не мог быть суеверным человеком, но сердце его упало, когда на его карточке написали «Крыло 13».
Там в двух предложениях суть характера Русанова и метода Солженицына: Русанов притворяется одним, а на самом деле другой…
Коммунизм пошёл на пользу Русанову. Тестомес на макаронной фабрике, когда он женился на своей пухлой Капе, он поднялся до высокого положения в профсоюзной бюрократии; теперь у пары большая квартира, машина и четверо детей; младшая, маленькая Майка, первая в семье играет на фортепиано. Успех не означает, что они потеряли симпатию к пролетариату: «В праздничных случаях, когда они немного выпили, если люди за столом были простыми людьми, Русановы вспоминали свои заводские дни и ломали в громкие переложения старых рабочих песен…»
Русанов, в общем, коммунистический идеолог… Я еще не решил, как его воспринимать… может ли Павел Николаевич быть коммунистическим «новым человеком», идеалистом, движимым любовью к народу, желанием способствовать делу коллективное развитие?
Однажды его Капа приходит в больницу с ужасными новостями. Родичев, их старый друг, освободился от восемнадцатилетнего заключения и вернулся в родной город. Русанов понимает, что Родичев, возможно, «сейчас инвалид, может быть, глухой или весь калека», но он все еще думает о нем как о рослом молодом человеке, который может протиснуться мимо медсестер и избить его прямо там, в постели. С чего бы ему бояться нападения старого друга? Потому что у Русанова и Капы есть одна преступная тайна: они донесли на Родичева в полицию. Будучи молодой парой, они делили квартиру с Родичевым и его женой Катькой. Капе стало тесно, и он начал ссориться с Катькой; каждый муж поддерживал свою жену. Русанов написал анонимное письмо, в котором говорилось, что его друг «намеревался собрать на заводе группу диверсантов», а Родичев был арестован как «враг народа» — как и надеялся Капа.
Родичев, их старый друг, освободился от восемнадцатилетнего заключения и вернулся в родной город. Русанов понимает, что Родичев, возможно, «сейчас инвалид, может быть, глухой или весь калека», но он все еще думает о нем как о рослом молодом человеке, который может протиснуться мимо медсестер и избить его прямо там, в постели. С чего бы ему бояться нападения старого друга? Потому что у Русанова и Капы есть одна преступная тайна: они донесли на Родичева в полицию. Будучи молодой парой, они делили квартиру с Родичевым и его женой Катькой. Капе стало тесно, и он начал ссориться с Катькой; каждый муж поддерживал свою жену. Русанов написал анонимное письмо, в котором говорилось, что его друг «намеревался собрать на заводе группу диверсантов», а Родичев был арестован как «враг народа» — как и надеялся Капа.
План Капы состоял в том, чтобы дождаться ареста Родичева, затем выселить Катьку Родичева и занять всю квартиру. Тогда вся терраса будет их. (Оглядываясь назад, теперь казалось смешным, что они считали столь важной комнату в четырнадцать квадратных метров в квартире без газа.
Но они считали, дети подрастали.)
Ага! Русанов донес на друга, чтобы получить всю квартиру? Это не новый человек!.. Русанов — извечный человеческий тип, благочестивый мошенник. Мольер назвал его Тартюфом, Диккенс назвал Юрайей Хипом. Шекспир назвал бы его хитрым придворным, Сервантес — суетливым священником, в Евангелиях Христос назвал его лицемером и фарисеем.
В этот момент, дорогой читатель, вы можете сказать: «Хорошо, Русанов не практикует то, что проповедует, ну и что? Как может Солженицын использовать одного персонажа, как бы ни были велики его неудачи в доказательстве лживости коммунизма?»
Солженицын не может доказать свою позицию против коммунизма одним персонажем. Он не делает Русанова символом коммунизма и не утверждает, что во всех его бедах можно обвинить одного человека. Действительно, к концу Ракового отделения , с таким же сочувственным и проницательным реализмом, как у [Джорджа] Элиота, Солженицын раскрывает этого полупинтового Сталина как слабого и напуганного человека, в котором, надо признать, мы можем увидеть многое из себя. Однако в ходе своих книг Солженицын описывает многих коммунистов, подобных Русанову, вымышленных персонажей и реальных людей, проверяя возвещаемую ими неправду правдой реализма и раз за разом терпя неудачу. В общем, я убежден: чего не смог сделать один Русанов, то сделали многие Русановы, сплотившиеся под знаменем жестокой идеологии.
Однако в ходе своих книг Солженицын описывает многих коммунистов, подобных Русанову, вымышленных персонажей и реальных людей, проверяя возвещаемую ими неправду правдой реализма и раз за разом терпя неудачу. В общем, я убежден: чего не смог сделать один Русанов, то сделали многие Русановы, сплотившиеся под знаменем жестокой идеологии.
Коммунисты не были благородными идеалистами, открывшими эпоху сотрудничества между новой породой самоотверженных людей; они были свежим урожаем многолетнего сорняка, обыкновенного хулигана. Любовь к власти и к пенсиям двигала ими не из любви к пролетариату… Солженицынские сочинения останутся навеки неопровержимым и убедительным доказательством их преступлений.
Солженицын, возможно, и написал последнее слово о русском коммунизме, но следующий отрывок из романа Дорис Лессинг наводит на мысль, что историческое дело против Бога-Неудачника может быть не таким откровенным в других странах. Учитывая приверженность Лайдона «сочувствующему и проницательному» реализму и признавая, что ясность в отношении пороков сталинизма — и даже ленинизма — теперь дается довольно легко (если вы не придурок или Жижек!), кажется справедливым отметить правду Солженицына сноской. Линии Лессинга, которые подчеркивают нравственные сложности прошлого века.
Линии Лессинга, которые подчеркивают нравственные сложности прошлого века.
Люди слишком эмоционально относятся к коммунизму или, скорее, к своим собственным коммунистическим партиям, чтобы думать о предмете, который однажды станет предметом изучения социологов. Это общественная деятельность, которая является прямым или косвенным результатом деятельности коммунистических партий. Люди или группы людей, которые даже не подозревают об этом, были вдохновлены, воодушевлены или получили новый толчок к жизни благодаря Коммунистической партии. И это верно во всех странах, где были коммунистические партии. В нашем маленьком городке через год после того, как Россия вступила в войну и благодаря этому оправились левые, возникли (кроме непосредственной деятельности партии, о которой я не говорю) небольшой оркестр, два читательских кружка. , две театральные труппы, кинематографическое общество, любительский обзор состояния городских африканских детей (который, когда он был опубликован, всколыхнул белую совесть и стал началом давно назревшего чувства вины) и полдюжины дискуссионных групп по африканской политике.
Впервые за время своего существования в этом городке закипела культурная жизнь. И им наслаждались сотни людей, которые знали о коммунистах только как о людях, которых нужно ненавидеть. И, конечно, многие из этих явлений не одобрялись самими коммунистами, тогда самыми энергичными и догматичными. И все же коммунисты вдохновили их, потому что преданная вера в человечество распространяет волны во всех направлениях. («Город с четырьмя воротами»)
У Солженицына и Лессинга могут быть разные взгляды на коммунистические партии, но Лайдон указывает на одно убеждение, которое разделяли два нобелевских лауреата: «письмо может рассказать правду о жизни». Прославление Лайдоном Солженицына сводится к его собственному акту сопротивления (пост)модернистским политическим и литературным тенденциям, подрывающим мораль мимесиса.
Великий урок, который преподает нам и будущим поколениям Солженицын своей победой над тиранией, таков: письмо может сказать правду жизни! …
Многие писатели 20-го века задавались вопросом: если тираны могут так успешно заставить писать ложь, убедить столь многих поверить в их ложь и убить писателей, которые бросают им вызов, что может сделать писатель? Что будет, если он напишет правду? Зачем рисковать, если никто не слушает? …Может ли писатель смотреть ужасу в лицо и записывать то, что видит? Не может ли такое широкое раскрытие глаз так сломить его дух, что, когда он сядет за письменный стол, он сможет писать только абсурдные и бессмысленные отрывки? В такие времена, спрашивали писатели, может ли письмо сказать правду?
ДА! гремит в ответ Солженицын, тысячу раз да!
Если письменность была способна бороться с жизнью на странице в течение сорока столетий, что же произошло в прошлом столетии, чтобы разорвать ее власть над зверем? Ничего! Да, мы убивали друг друга в бесчисленном количестве; да, мы ступили на луну. Но здесь, на земле, мужчины и женщины все еще живут, желают и умирают? Несмотря на все изменения, которые может принести время, неужели бурные ветры все еще качают любимые почки мая? Да, они делают! Это истина, на которую мы можем опираться, как на участок земли, который мы можем возделывать, чтобы накормить себя, на котором мы можем построить дом, чтобы укрыться.
Но здесь, на земле, мужчины и женщины все еще живут, желают и умирают? Несмотря на все изменения, которые может принести время, неужели бурные ветры все еще качают любимые почки мая? Да, они делают! Это истина, на которую мы можем опираться, как на участок земли, который мы можем возделывать, чтобы накормить себя, на котором мы можем построить дом, чтобы укрыться.
Может ли писатель смотреть на ужас и жить, чтобы записать его? Да, победа Солженицына учит. Чтобы сделать это, может потребоваться вся последняя капля мужества писателя, лишить его или ее куска дикой решимости. Правда, которую может сообщить смелый писатель, не польстит нашему тщеславию как виду; это может показать нас как самых жестоких и самых распутных из всех. Но писатель, который осмеливается так глубоко копнуть в жизнь и писательство, может написать эту правду. Солженицын учит тому, чему мы учимся у всех великих писателей: сокровенная суть письма — его органическая связь с самой жизнью. Писатели, которые вонзают свои перья в это пульсирующее сердце, место, где опыт становится словом, найдут истину, которая поддержит их против неправды и защитит от ее ужаса и ее злобы.
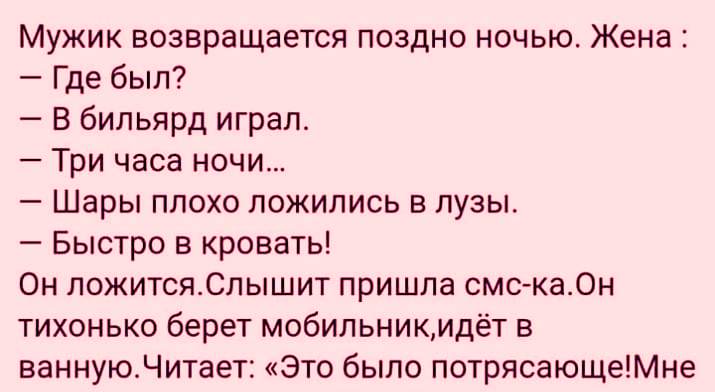 на мой характер.
на мой характер. Потом, когда рассвело… Я увидел что-то белое в трех шагах от того места, где я это бросил! ветер откатил бумажный комок в сторону, и он застрял среди груды досок.
Потом, когда рассвело… Я увидел что-то белое в трех шагах от того места, где я это бросил! ветер откатил бумажный комок в сторону, и он застрял среди груды досок. . Вот вопросы, которые должны решить судьбу обвиняемого».
. Вот вопросы, которые должны решить судьбу обвиняемого». В конце концов, это могло быть, не так ли?»
В конце концов, это могло быть, не так ли?»  В гору? Или в небеса? Идем, спотыкаемся и шатаемся…
В гору? Или в небеса? Идем, спотыкаемся и шатаемся… Разрывает его своими клыками. Злые люди обычно лучше, чем кто-либо другой, знают, что они делают. И продолжайте это делать. Что нам с ними делать?
Разрывает его своими клыками. Злые люди обычно лучше, чем кто-либо другой, знают, что они делают. И продолжайте это делать. Что нам с ними делать? – Ему не очень хотелось есть, но тем не менее он съел порцию телятины и выпил немного пива. – Сукин сын.
– Ему не очень хотелось есть, но тем не менее он съел порцию телятины и выпил немного пива. – Сукин сын.
 Но они считали, дети подрастали.)
Но они считали, дети подрастали.) Впервые за время своего существования в этом городке закипела культурная жизнь. И им наслаждались сотни людей, которые знали о коммунистах только как о людях, которых нужно ненавидеть. И, конечно, многие из этих явлений не одобрялись самими коммунистами, тогда самыми энергичными и догматичными. И все же коммунисты вдохновили их, потому что преданная вера в человечество распространяет волны во всех направлениях. («Город с четырьмя воротами»)
Впервые за время своего существования в этом городке закипела культурная жизнь. И им наслаждались сотни людей, которые знали о коммунистах только как о людях, которых нужно ненавидеть. И, конечно, многие из этих явлений не одобрялись самими коммунистами, тогда самыми энергичными и догматичными. И все же коммунисты вдохновили их, потому что преданная вера в человечество распространяет волны во всех направлениях. («Город с четырьмя воротами»)